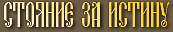Статья протоиерея Павла Великанова «Покаяние нераскаянное» вызвала широкое обсуждение — что такое сегодня исповедь постоянного прихожанина, в чем надо каяться и надо ли каяться в несделанных добрых делах? Публикуем отклик на статью протоиерея Андрея Ткачева.
Наша исповедальная практика сплошь и рядом явно не удовлетворяет потребностям качественного улучшения церковной жизни и внутреннего роста прихожан.
«Если попасть к особо ретивому духовнику, который начнет в… душе многокилометровые дыры бурить, в надежде отыскать чего-нибудь эдакое, то можно целую гору из этих отвалов собрать. Но опытные знают: ничем хорошим такие „глубокие погружения“ в пучины души, как правило, не заканчиваются. Вот и кочует „оптимальный“ список с грехами из одних рук в другие, вполне органично отражая и типичное состояние души, и её стандартные немощи».
Так пишет прот. Павел Великанов в статье «Покаяние нераскаянное». Далее он продолжает:
«Когда я еще был „свежерукоположенным“ священником, то старался убеждать прихожан в крайней важности и необходимости тщательной подготовки к каждой исповеди, проверке совести по исповедным книгам, подробном составлении списка прегрешений с их последующей „сдачей“ батюшке. Пока не столкнулся с совершенно неожиданным открытием: оказывается, в какой-то момент церковной жизни личности это „выворачивание“ души наизнанку становится настолько привычным делом, как для гимнаста — утренний шпагат. Причем настоящий смысл этого открытия души духовнику бесконечно далёк от действительного покаяния, — и слава Богу: вывернули душу, посмотрели, ничего особо нового не появилось, всё нормально, свернули обратно — и отправили к причастию».
Эти слова, как я думаю, рождены сострадательным пастырским опытом, и в очередной раз обозначают серьезную проблему. Не столько решают, сколько, именно, обозначают. Скажу и я то, что думаю, по этому поводу.
Шаблонность и механичность иссушают жизнь. В Церкви же они просто действуют убивающее. Как манекен — не человек, так и механическое соблюдение поведенческих и обрядовых привычек не есть духовная жизнь. Шаблонность, имитирующая жизнь, но жизнью не являющаяся, в отношении исповеди проявляется, в частности, в том, что:
— заученно повторяются покаянные формулировки, без надежды на исправление (дурная бесконечность),
— исповедь превращена в «пропуск» на Причастие,
— непозволительно смешаны исповедь, как таковая, и монашеская практика «откровения помыслов», что превращает священника в «самочинного старца».
Это — на поверхности лежащие вещи. На глубине их еще больше.
«Нет терпения, нет смирения, рассеянно молюсь, не имею любви к ближнему», — это уже не крики души, но словесные штампы, привычно кочующие из бумажки в бумажку, из исповеди в исповедь. Будучи сами по себе весьма серьезными диагнозами внутренней жизни, эти слова, как роса — солнечного тепла, боятся постоянных повторений. Они должны подразумеваться, но не имеют права повторяться раз за разом. Иначе происходит обесценивание смысла.
Вы можете себе представить, что человек однажды скажет: «У меня раньше не было терпения и смирения. Теперь они уже есть. Вот любви пока нет. В этом и исповедуюсь»?
Такие слова невообразимы. Нам всегда будет не хватать терпения, смирения, внимательности, любви… Так зачем же повторять эти самоочевидные вещи раз за разом? Именно дурной бесконечностью, то есть повторением без конца и смысла веет от такого «покаяния».
Человек может сказать: «Я впал в блуд, но мне больно, и я плачу. Я не хочу жить в грехе и имею волю каяться. Не хочу повторять этот грех. Мне очень стыдно». Думаю, это — покаяние, вернее — часть его. Так думать и говорить можно и нужно. Но нельзя сказать: «У меня не было любви и внимания на молитве. Я в этом каюсь. Теперь у меня будет и любовь и внимание». Что-то глупое и больное послышалось бы нам, если бы такие речи прозвучали под епитрахилью. Но именно эти речи подразумеваются, раз мы требуем из раза в раз повторять «формулу отсутствия великих добродетелей».
Человек может годами твердить перед Евангелием, что «не имеет смирения», и параллельно будет ненавидеть невестку, считать себя лучше всех, ждать того дня, когда Америка утонет в океане, а все грешники попадут в горячую смолу. И все это будет жить в человеке одновременно. Неисцеленные струпья будут туго перебинтованы красивыми словами из хороших книжек.
Насколько лучше заниматься собой и знать свои собственные душевные недуги, чтобы называть не то, что у всех вообще есть (например — гордость), а у тебя именно сейчас есть (например — ропот среди усилившихся болезней).
И ведь не скажет человек: «Я гордый», а непременно скажет: «У меня гордыня». Сама речь будет какой-то шаблонной, неживой, как после инструктажа. Холодом веет от таких «кающихся». А другой вздохнет: «Устал я, батюшка. Устал. Но не унываю. Буду держаться», — и тепло тебе будет при этих словах, потому что они простые. А все простое пахнет теплым хлебом.
Священники, подгоняемые жаждой великой духовности, действительно часто требуют от людей какого-то неслыханного покаяния, странно забывая о той разнице, которая пролегает между скитом Антония Великого и жителями «хрущевки» на окраине райцентра. Есть какая-то нетрезвость, какая-то педагогическая бестактность в требовании от простого человека чего-то великого и достойного святцев. Причем — сразу и без подготовки.
То открытие мыслей (откровение помыслов), которое предполагает отслеживание движений души в течении дня, бодрствование над собою, память Божию, и затем принесение себя на суд духовника — вещь редкая даже и в монастырях. Такая практика требует обоюдной зрелости священника и христианина. Более того, от священника она требует великой опытности и чуть ли не святости, а от исповедника — подвижнического устроения души. Это — редко, это не размножишь на ксероксе.
Если священник высокодуховен, а исповедник слаб и слеп, как только что родившийся котенок, то нужны любовь и осторожность со стороны пастыря. Любовь, осторожность и время.
Если мирянин строг к себе, жизнью бит, опытен, начитан и не экзальтирован, а священник слабоват, от мирянина требуется мудрость и понимание — он не у старца в келье, а на коленях перед Евангелием. Покаялся, принял благословение — и слава Богу! Христос жив!
Если оба серьезны и опытны — духовник и исповедник — лишних слов не будет. Будет то, что нужно. Это — тихая радость со слезами на глазах.
А если духовник сырой и исповедник зеленый; если оба нахватались по верхам каких-то цитат и трепещут конца света; если с ними по отдельности говорить трудно и нужно с нуля и с азов начинать, то сколько карикатур может возникнуть на этой почве — подумать страшно.
Человек Евангелие еще не прочел, ему говорят: «Борись со страстями», не поясняя — как. Человек Отче наш только выучил и еще смысла не понял, а ему говорят: «Твори умную молитву».
Одним словом, человек в первый класс пошел, а его спрашивают по программе института, да еще ругаются. Так у нас и в школах учат — повышают планку требований, как будто поставили цель вундеркиндов плодить, а уровень образования все падает и падает.
Вот вам и формула: завышение требований без любви и снисхождения не ведет людей вверх, но калечит их и убивает те остатки живого, которые еще есть.
Люди хотят причащаться и боятся. «Что я на исповеди скажу? Вроде бы грехов особых не было» И начинают выковыривать из себя то, что можно в бумажечку написать: нет любви, нет терпения, осуждаю, объедаюсь. Это не здоровое явление. В нем нет простоты, а есть ложная установка на «оцеживание комаров». Коль скоро вы это заметите, не сомневайтесь — верблюд уже проглочен.
Вместо того, чтобы радоваться, что грехов особых у человека не было, а причаститься он хочет, мы буквально запугиваем людей и требуем, чтобы они все, как один, выдавали «на гора» тонны затаившейся грязи.
Настоящее покаяние — это много слез и мало слов. У нас же привычна обратная ситуация — много слов, а глаза сухие. И действительно глубокое покаяние с внутренней болью, со слезой не может повторяться с той же регулярностью, с какой читаются вечерние молитвы. Это же насколько нужно быть деревянным человеком, чтобы не понимать: глубокое покаяние — редкое чудо и подарок, а не регулярное занятие, как визит к стоматологу.
 Надо священнику самому никогда не каяться и не выть о себе самом, как о покойнике, или напрочь забыть об этом ранее бывшем опыте, чтобы шаблонно относиться к людской исповеди, грехам, слезам, открытым тайнам. Священник ведь не только некто, принимающий исповедь. Он ведь и сам — кающийся. И если так, тогда многому можно научиться в режиме сострадания. А если не так, то на эту беду нет лекарства.
Надо священнику самому никогда не каяться и не выть о себе самом, как о покойнике, или напрочь забыть об этом ранее бывшем опыте, чтобы шаблонно относиться к людской исповеди, грехам, слезам, открытым тайнам. Священник ведь не только некто, принимающий исповедь. Он ведь и сам — кающийся. И если так, тогда многому можно научиться в режиме сострадания. А если не так, то на эту беду нет лекарства.
Одного композитора как-то награждали коммунистические вожди медалью за успехи в творчестве. Цепляют на грудь железку и спрашивают: «Как долго вы писали вашу последнюю песню?». Композитор отвечает: «По вдохновению, ночью — за четыре часа» «А, так вы можете шесть таких песен за сутки писать, раз одну написали за четыре», — сказал вождь оторопевшему автору. Нам смешно, что такие элементарные вещи, как непрогнозируемость вдохновения, не понятны глупому человеку. Но над кем смеетесь? Над собою смеетесь.
Нужно много лет учиться и потом много лет думать и томиться на медленном творческом огне, чтобы наконец разродиться шедевром. Шедевр будет не написан, а записан за четыре часа. Писаться же он будет годами.
Так же и в покаянии. Нужно много трудиться и мучиться, и переходить постепенно от молока к твердой пище, и страдать, и бороться, чтобы однажды дойти до перемены и изменения. Покаяние — это великое творчество, и столь любезный большевистскому сознанию план, с расписанием требований и регламентацией вздохов, здесь совершенно неуместен.
Источник: https://tsargrad.tv